«Историю кинематографической техники можно рассматривать как историю освобожденной камеры»[1]
– Александр Астрюк
Определение Астрюка, вынесенное в эпиграф настоящего текста, логически закономерно применить к методологии создания, к качеству существования и к способу последующего восприятия зрителем фильма – к развёртыванию кинопроцесса (в масштабах как отдельной ленты, так и исторического развития кино вообще). Кинопроцесса, который также закономерно меняется в прямой зависимости от изменений, происходящих в кинематографической технике.
История освобождения всегда и исключительно документальной камеры, без которой никакое кино невозможно и которая ввиду хотя бы только этого бесспорного факта исчерпывает его природу (сущность кинематографичности как свойства) – это не столько история её узко технического совершенствования, избавления киноаппарата от конструктивных рудиментов и недостатков, сколько история расширения границ возможностей кинематографа – его способности оптически запечатлевать зримое жизненное движение во все больших объемах.
В таких, какие, разрастаясь с развитием, с одной стороны, самой документальной камеры, а с другой (и в зависимости от первой) – мастерства обращения с ней, выходят за устоявшиеся и неизменные пределы невооруженного человеческого глаза.
В общем, освобождение камеры следует понимать в смысле перманентного, количественно и качественно обновляющегося процесса кинематографического освоения видимой действительности, её безграничной протяженности.
Показательно в данном случае суждение одного из зачинателей мировой кинодокументалистики Дзиги Вертова, который утверждал:
Мы не можем наши глаза сделать лучше, чем они сделаны, но киноаппарат мы можем совершенствовать без конца <...> До сегодняшнего дня мы насиловали киноаппарат и заставляли его копировать работу нашего глаза <...> Мы с сегодня раскрепощаем аппарат и заставляем его работать в противоположном направлении, дальше от копированного.[2]
Именно такая «кинософская» (в смысле философии кино) позиция составляет фундамент и направленность кинопроцесса Виктора Косаковского – документалиста, постоянно думающего о кинематографе, о его возможностях и задачах, служащего ему.[3] Наконец, документалиста, убеждённого, как и Вертов, в том, что «кино должно показывать людям то, что они не видят, то, что они не хотят видеть или то, что они решили не видеть».
Короче говоря, убеждённого в том, что киноаппарат, обладающий собственным самобытным зрением, своим применением – и фильм как производный результат этого применения – обновляет или, во всяком случае, должен обновлять человеческое мировидение.
Там, где во главу угла ставится освобождение онтологически документальной камеры, там, где рабочий процесс выстраивается вокруг этого освобождения, неизбежно обнаруживается и самостоятельность, свобода кино, аккумулирующего этой своей свободой обновляющее свойство киноаппарата.
Или, наоборот, там, где работа исчерпывается чисто кинематографическими задачами, там всегда необходима освобождённая от сторонних или отвлеченных от неё целей камера.
Если Александр Астрюк прав, если история кинематографической техники суть история освобождённой камеры, то история кино вообще (кино-как-кино) – это история освобождения кинематографа. И история эта, конечно, еще не завершена, продолжается сегодня, утверждая правоту собственного движения на примерах многих подлинно кинематографических (или стремящихся к такому качеству) лент.
«Жизненная эмпирия» – так охарактеризовал фильм Косаковского «Тише!» кинокритик Игорь Манцов в журнале «СЕАНС».[4] Именно с этой ленты, сознательно нарушая фильмографическую хронологию, следует начать – и вокруг неё выстроить – наш разговор.

Кадр из фильма «Тише!» (2003), реж. Виктор Косаковский
Хотя бы потому, что «Тише!» является воплощённой кульминацией чисто кинематографических исканий режиссера, вместившей в себя в качестве «фильмообразующего» костяка всё то, что также определяет при всевозможных «но» самобытное качество остальной его фильмографии.
Камера, поставленная перед окном петербургской квартиры, запечатлевает буквальное и нерукотворное движение улицы: рабочие спешно чинят дорогу, прохожие бредут по своим делам, влюблённая парочка дурачится в лужах, тогда как старая взволнованная женщина зовёт собаку по кличке Тишка. Многоликий уличный угол предстаёт в сумме не менее разнородных зримых явлений, ловко выхваченных киноаппаратом, требующих такого же разнообразного его применения.
Косаковский, согласующий свои практические решения исключительно с природой кинематографа, с ответом на вопрос «что должно делать кино?»[5], понятие которого, по его мнению, «принадлежит документалистике»[6], отказывается от своего авторского «Я», от художественной задачи в процессе единственно кинематографического запечатления.
«Тушуясь» перед работой киноаппарата, освобождая его от иных, кроме природно присущих ему, задач, режиссёр ограничивается документальной регистрацией, растворяется, оставаясь с ним один на один, без посредства художественных схем, в зрительном внимании освобождённой камеры и через это внимание – в буквальном жизненном потоке.
Ровно так, как об этом говорил Зигфрид Кракауэр, считавший, что фотограф или кинематографист «опирается на собственную индивидуальность не для того, чтобы выразить её в “самостоятельных” творческих произведениях, а чтобы растворить её в сущности окружающих его со всех сторон предметов»[7].
Это объективность, достигаемая активной (лучше сказать, подвижной, подчинённой в своём движении действительности, также находящейся в движении) субъективностью, как писал Марсель Мартен. [8]
Эту мысль подтверждает сам Косаковский, указывающий на неопределённость своих переживаний в процессе кинематографического созерцания, читай – на отсутствие выверенной авторской волей системы, требующей творческих преобразований документального материала:
Все фильмы, которые я делал до этого, имели жесткую структуру и вставить какой-то подлинно кинематографический кадр было невозможно – нужно следовать сюжету, продолжать историю. А тут я снимал, потому что нравилось. Я снимал не потому, что хотел рассказать историю улицы, а потому что снимал из окна, потому что нравилось… Если бы мне нравилось то, что делается за моим окном, или не нравилось, я бы не снимал. А вот когда я не знаю, нравится или нет – если мне и нравится и не нравится одновременно…[9]
Иначе говоря, режиссёру нравилось не снимаемое, но сам процесс съемки. Он стремился выразить не свое понимание или отношение к улице, но саму эту улицу так, как её увидел киноаппарат. Именно этим и исчерпывается активная субъективность Косаковского, манипуляции с камерой которого обусловлены подвижной действительностью перед киноаппаратом.
Неподконтрольность и самоигральность действительности перед камерой, в визир которой документалист эту самую действительность наблюдает – буквально смотрит в зрение киноаппарата, «капитулируя» собственным глазом перед глазом механическим, перед тем, что и как последний фиксирует – определяет импровизированную (читай – свободную) «хореографию» её движений.
Из этой же оптической импровизированной «хореографии», камертоном выявляющей зримое звучание действительности, проистекает в той же мере и импровизированная монтажная организация, слагающая самобытные динамики отдельно взятых планов в согласии только и исключительно с этими динамиками – с их собственными как бы жизненно импровизированными закономерностями.
Так, например, бессистемно возникают фрагменты, сигнализирующие о смене времен года: эти кадры сложены вопреки своей хронологической последовательности, импровизированно. Забегая вперед, то же самое можно сказать об эпизодах с рапидом: Косаковский убыстряет движение отнюдь не только в кадрах с дорожными рабочими.
Часто рапид появляется и прекращается неожиданно, в совершенно разные моменты фильма, что исключает какую бы то ни было строгую иносказательную закономерность и авторскую означающую систему, намекающую выразительными формами на определённый способ и смысловую направленность её считывания зрителем.
В случае с фильмом «Тише!», который, казалось бы, должен располагать к хаосу немонтажности (ввиду изобилия разнородного и самостоятельного материала), режиссёром на деле достигается гармоничность и органичная слитность ленты.

Кадр из фильма «Тише!» (2003), реж. Виктор Косаковский
Монтажная организация продолжает самоигральную и как бы случайную логику жизни, чем и вызывается ощущение аутентичной слитности материала (как слитна и спрессована жизнь, состоящая из великого множества подчас решительно различных явлений).
Ощущению органичной спрессованности, лишённой каких-либо нарочито выразительных, выступающих авторских акцентов, способствует характер работы самой камеры в пределах одного кадра, активность которой обусловлена динамикой наблюдаемого явления: оно, это явление, как бы определяет оптический подход к себе и само является в этом адекватном своему существу подходе.
К примеру, один и тот же асфальт оказывается невозможно снять одинаково. В каждом конкретном случае он приобретает иное экранное представление, оправданное отнюдь не художественной волей автора, но самой подвижной и изменяющейся жизнью перед всегда внимательным объективом.
Так, сухой, пыльный, даже грубый асфальт преображается нежностью, мягкостью во время дождя, обращается звёздным светом в ночи. И для каждого «нового» асфальта требуется свой новый уникальный метод, воспроизводящий его самость.
В руках у Косаковского освобождённая камера приобретает природно присущую ей постоянную внимательность ко всему видимому. В результате лента «Тише!» оказывается лишена монтажной иерархии: она, будучи составленной из суверенных и самостоятельных кадров, вмещающих в себя влияние и сущность запечатлённых самобытных явлений, сигнализирует о равных относительно друг друга весе и значимости всех вошедших в фильм планов.
В «импровизации изображения»[10] обнаруживают себя документальные образы вещей, диктующих собственной вольностью решение отдельно взятого плана и в этом диктате складывающих свою образность. Образность, в сумме равных компонентов которой монтажно слагается то, что можно называть усложнённым документальным образом уличного угла.
В освобождении внимательной камеры, в обусловленной её свободой импровизированном монтаже происходит то самое «обновление мировидения», о котором было сказано ранее: каждое явление, зафиксированное в кадре, оказывается уникальным и необычным из-за восприятия его буквальным кино-глазом, способным уловить (а не привнести или создать заново) природную самобытность объекта, недоступную ограниченному и привычному зрению.
Каждый объект приобретает изначально присущую ему самость – собственное лицо, которое сталкивается с иными индивидуализированным объектами и тем самым создает самобытные динамические связи.
«Тише!» – это кино, стремящееся к достижению подлинной самости кинематографа, исчерпывающееся зрительным раскрытием, переоткрыванием действительности. Это кино, перефразируя Кокто, фиксирующее жизнь за работой – и в том предлагающее зрителю уникальный опыт обновляющегося глаза, который заново обнаруживает видимую жизнь.
Уникальность этого опыта прослеживается как в сравнении с эстетическим опытом, переживаемым в случае взаимодействия с условными произведениями традиционных искусств, существующих как авторский означающий символ и требующих интеллектуального отстранения в процессе считывания заложенных в них смыслов, так и относительно обыкновенного, сугубо человеческого – т. е. внеэкранного, внекинематографического – восприятия зримого бытия.
«Влюбленность» в процесс запечатления, подчинённость зрения наблюдателя зрению камеры и следующая за этой подчинённостью неопределённость, невыразимость в рамках импровизированного кадра, зарегистрировавшего неподконтрольное движение жизни, его отношения к объекту кинематографического зрения – все это обуславливает стремление к абсолюту кино, которое действует по исключительно кинематографической логике и закономерностям и существует в рамках своего «нигде не краденного ритма»[11].
Кажется, Косаковский неспроста выбрал именно улицу в качестве объекта запечатления. Бесконечные вопросы о том, что должно делать кино, каковы его пределы, – которые он сам себе постоянно задавал, – в своё время и привели его туда, откуда начался кинематограф – к благодатному материалу, к которому прямо-таки тянется киноаппарат.
Это суждение подтверждает уже упомянутый нами теоретик кино Зигфрид Кракауэр. Размышляя о склонностях камеры, указывая на стремление кино к неинсценированному, незавершённому и случайному, он среди прочего пишет следующее:
Склонность кинематографа к отображению непредвиденных ситуаций находит особенно яркое проявление в его постоянной привязанности к теме «улицы». Под этим термином подразумевается не только улица в буквальном смысле этого слова и, в частности, улица большого города, но и разные другие места обычного скопления людей, такие, как вокзалы, помещения для собраний, бары, вестибюли гостиниц, аэропорты… В данном контексте улица, которая раньше характеризовалась как центр мимолетных впечатлений, представляет интерес как место, где превалирует элемент случайного и где, почти как правило, происходят всякие неожиданности.[12]
Освобождённый киноаппарат, фиксирующий самозначную буквальную жизнь улицы, отображает вместе с тем неожиданность и незавершённость её движения, смысловую неопределённость тенденции (в отличие от однонаправленных авторских концепций художественных произведений и игровых фильмов), располагающую к субъективным герменевтическим потенциям вживленного в экран зрителя.[13]

Кадр из фильма «Тише!» (2003), реж. Виктор Косаковский
Уместно будет сказать, что происходит ролан-бартовская «смерть автора»[14], поскольку в этот момент кинематографист относительно своего восприятия полученного материала как бы уравнивается со зрителями, сидящими перед экраном.
Изображение реального бытия, обновлённого зрением механического кино-глаза, этим самым обновлением возвращает зрителя, как бы сказал теоретик кино Риччото Канудо, «к источникам всех эмоций, ища самое жизнь посредством движения».[15]
Ни социальной критики, ни авторской позиции, требующей художественности, рукотворности, вторжения автора в экранное пространство. Только «пустячные события окружающего нас мира – уличные сцены, так часто привлекающие толпу, стихийные движения которой чем-то напоминают движения волн или листьев».[16]
Можно также сказать, что Косаковский на практике достигает деллюковской фотогении[17], выявляющей (а не создающей заново) зрением освобождённой камеры красоту и самобытность нерукотворного жизненного движения, не требующего никакого отвлечённого оправдания. Это «первобытное преклонение» перед неподконтрольной жизнью, зафиксированное зорким объективом.
Следует резюмировать общие выводы. Освобождение буквальной камеры в процессе запечатления, «подчинение» оператора этому процессу, жизненному потоку, обуславливающему как само кинофицированное созерцание, так и монтажное решение конечного фильма – это симптоматика стремления к кино-как-кино, которое призвано обновить человеческий взгляд на действительно существующее. К кино-как-кино, которое выступает результатом работы только и исключительно камеры, регистрирующей движение действительности.
Эти характеристики и составляют искомый фундамент уникальности фильмографического достояния Косаковского, наследующего в них убеждению люмьеровского оператора Феликса Месгиша в том, что объектив киноаппарата «открыт на мир»[18]. Вне всяких сомнений – «понятие “синема” принадлежит документалистике»!
Уже в дебютном фильме-интервью «Лосев» Косаковский продемонстрировал верность этой формулировки, утвердил в качестве «фильмообразующей» (и определившей всю его последующую фильмографию) тенденцию – тенденцию освобождённой камеры, освобождённого кино-как-кино.
Отнюдь не авторские монтажные манипуляции, отсылающие к форме социально и политически ориентированного проблемного спекулятивного документа, составляют уникальное качество этой ленты (так, например, монолог русского философа о свободе и судьбе монтажно прерывается вставкой цитаты-интертитра Ленина, призывающего к легализации революционного террора).
Это качество возникает именно в связи с побуждением режиссёра к свободному кинематографическому запечатлению: импровизированная нюансировка съёмки интервью, выраженная в мягком и протяжённом укрупнении лица героя в момент его рассуждения; длительное наблюдение за окном в начале; десятиминутный «люмьеровский» статичный план последнего прощания перед гробом; недвижимая регистрация возвышающейся могильной земли в завершении…
Именно освобождённая буквальная камера смогла запечатлеть русского философа во всей непосредственности и индивидуальной самостоятельности его внешнего поведения. За внешним стареющим обликом, внешней активностью Лосева объектив обнаружил его глубинную внутреннюю речь о самом себе: вялые жесты и размеренный тон голоса исполнены еле ощутимой пассионарной мощью мыслителя:
Жесты обозначают понятия и чувства, не выражаемые словами… На лица человека, в его мимике отражаются чувства, которые оформляются непосредственно, без слов и становятся зримыми…[19]
После «Лосева» были «Беловы», репортажное обозрение поколения «Среда», лирический сборник трех историй «Я любил тебя», «Тише!», о котором весьма обширно было сказано выше, документально зарегистрированный эксперимент «Свято», продемонстрировавший непосредственность реакций ребенка на собственное отражение в зеркале (метафора кино), и более известные современному зрителю «Да здравствуют антиподы!», «Акварель», «Гунда» и «Архитектон».
И, надо сказать, все фильмы Косаковского (от «Лосева» до «Гунды» и «Архитектона») самобытны – один не похож на другой. Их самобытность диктуется общей фильмографической тенденцией Косаковского – стремлением к освобождённой камере, к чисто кинематографическому запечатлению.
Именно этот фактор определяет как непохожесть фильмов друг на друга, так и их общую отличность от всего того, что в общей массе предлагает современный кинематограф. Однако, повторимся, движение к освобождению камеры, к освобождению кино – движение постоянное, беспредельное.
И именно поэтому говорить об абсолютной – т. е. достигшей пределов – чистоте кинематографа Косаковского не приходится. Пусть даже стремление к этой самой чистоте и является определяющим. Основанием для такого утверждения служат два фактора.
Первый: сам режиссер отмечал, что воспитывался в рамках традиционного понимания кино, рассказывающего истории, воплощающего авторскую интенцию, т. е. в рамках отношения к кино как к искусству. Второй: Косаковский не раз сетовал на то, что документальным фильмам тяжело пробиваться на большой экран и фестивальные показы.
И первый, и второй факторы определяют закономерность игровизации, «охудожествления» (читай – отступления от природы кино) документального материала. Если с первым фактором причинно-следственная последовательность ясна, то на втором следует остановиться чуть подробнее.
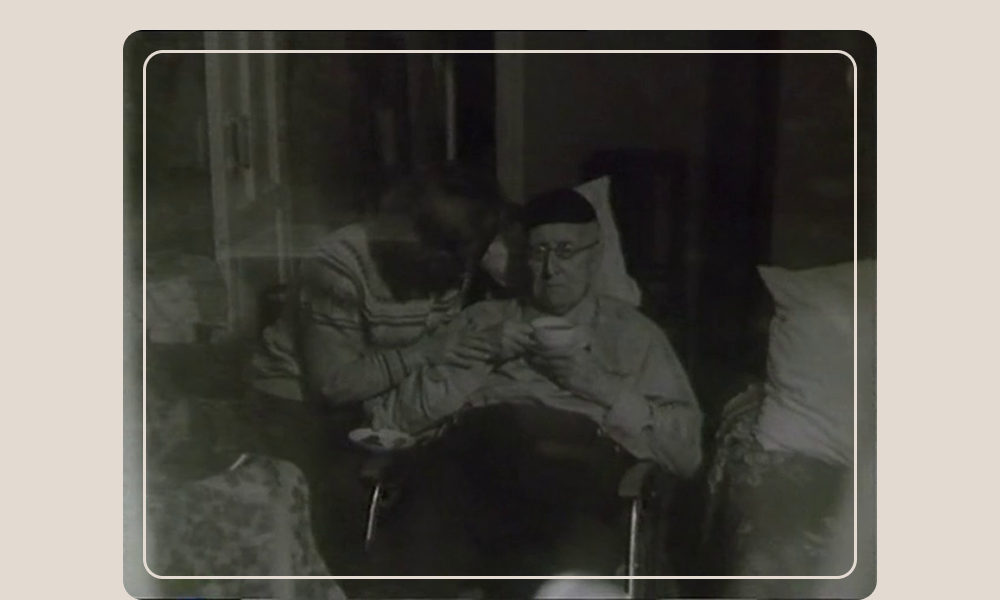
Кадр из фильма «Лосев» (1989), реж. Виктор Косаковский
Удивить фестивали возможно только при условии соблюдения некоторых эстетических требований, которые эти фестивали, привыкшие к художественному кинематографу, требующие кино-как-искусства, устанавливают.
Иначе говоря, одержать победу над ними, заинтересовать их можно только на их поле и по их правилам – на поле рукотворного искусства. Косаковский говорит:
Мне всегда хотелось доказать руководителям крупных фестивалей, что они делают ошибку, беря документальное кино только если там скандал <...> Это не имеет отношения к кинематографу. Я хотел сделать фильм, который они не смогут не взять…[20]
Те же обстоятельства присутствуют и у кинотеатрального проката: прокатчик-делец боится рисков, заинтересован в том, чтобы зритель, увлеченный, скажем, необычной красочной формой, наверняка пошел в кино.
«Кинопрокатчик нисколько не интересуется качеством кинопродукции, его интересуют исключительно возможности её сбыта»[21], – отмечал теоретик кино Луиджи Кьярини. Прокатчик принимает фильмы вне кинематографических критериев – вне необходимости соответствия продукта природе кинематографа. Именно поэтому «скучные» документальные ленты, на которые никто не ходит, волнуют прокатчика (если вообще волнуют) в последнюю очередь.
Пытаясь добиться признания фестивалей, доступа к массовому зрителю, Косаковский, сам того не осознавая, отнюдь не одержал победу, не доказал свою правоту, но подчинился правоте фестивалей и требованиям кинопрокатчиков, заинтересованных в таких фильмах, формотворческая выразительность которых бы компенсировала возможные риски, завлекала бы зрителя.
В сумме обрисованных выше факторов появилась наиболее игровизированная концептуальная лента «Да здравствуют антиподы!», выбивающаяся из генеральной тенденции освобождённой камеры и ставшая кульминацией второй тенденции фильмографии Косаковского, которую можно определить формулировкой «кино-как-искусство».
Фильмография режиссера дуальна. В фильмах документалиста всегда соседствовали в том или ином соотношении две тенденции: кино-как-кино и кино-как-искусство. И если лента «Тише!» является воплощением первой тенденции при минимизации второй (хотя и там присутствует, например, музыкальная аранжировка или рапид), то «Да здравствуют антиподы!» – простите за каламбур – это её антитеза (не лишённая, впрочем, внимательности наблюдения).
Формотворческие авторские манипуляции, выраженные в двойной экспозиции, прозрачно ассоциативном монтаже и т. д., напоминают искания авангардистов 1920-х годов и, с другой стороны, творчество Годфри Реджио и Артавазда Пелешяна.
Показательно, что, как только Косаковский решил отойти от главенствующей тенденции его фильмографии, определяющей её своеобычность, – подчинил камеру своей художественной интенции, – он сразу же потерял собственное самобытное лицо.
Весьма кстати будет вспомнить, что на этот счёт говорил Кракауэр:
В экспериментальном кино сегодняшнего дня мало сколько-нибудь нового; почти все, что в нем есть, можно найти в фильмах французского «авангарда» двадцатых годов. В каждом из таких случаев я предпочитаю рассматривать прототипы, которые выражают авторский замысел ярче всех более поздних вариаций.[22]
С той же вторичностью сталкивается и Косаковский в своём мнимом экспериментаторстве. Стремясь делать кино-как-кино документалист руководствуется общим контекстом понимания кино как искусства – парадокс, характерный для многих неигровых режиссеров.
Как кажется, именно стремлением выйти из этого парадокса, восстановить фильмографическую самость является его следующая псоле «Антиподов» работа «Акварель», реабилитирующая главенствующую тенденцию освобожденной камеры.
Эта лента воплотила в себе то самое «первобытное преклонение» перед жизнью и природой, о котором было сказано выше. Этот фильм в целом повторяет те же закономерности, по которым существует фильм «Тише!» и предпоследняя лента Косаковского «Гунда»: длительные планы-эпизоды, импровизация изображения, вдохновенное запечатление киноаппаратом многоликости мира.
«Акварель» напоминает подвиг документалиста Герберта Понтинга с его «Великим белым безмолвием», составленным из впечатлений начинающего кинематографиста – бессистемных, чистых, импровизированных – продиктованных экстраординарными обстоятельствами его работы:
Именно непосредственность документалиста, принявшего «правила игры» промерзших пространств, оказалась адекватной формой зрительного восприятия и наиболее полного выражения уникальности проявлений природы Южного полюса... Понтинг оказался со всех сторон свободным от уже нарождающихся штампов кинотворчества, а, стало быть, могущим импровизировать изображение, выискивая жизненные впечатления.[23]
И даже парусник, напоминающий корабль «Терра Нова» Понтинга, в «Акварели» присутствует.
Впрочем, «Акварель» не лишена изъяна – в этом отношении она наследует логике фильма «Да здравствуют антиподы!». Для примерной иллюстрации можно вспомнить попытку «охудожествления» и без того жизненно выразительного документального материала посредством музыкального сопровождения в момент шторма, обратившего фрагмент в пресыщенный клип.
Такой параллелизм, не добавляющий ничего нового к видимому изображению, но даже подавляющий его, ярко вскрывает ошибочность и рудиментарность стремления Косаковского к кино-как-кино в рамках парадигмы кино-как-искусства: там, где зримая действительность говорит сама за себя, там, где жизнь переоткрывается киноаппаратом, наконец, там, где природа сама по себе поражает своей фантастичностью, любая, пусть и ненавязчивая авторская фантазия или интенция будет лишней и даже вредной, ибо переведёт акцент восприятия зрителя с собственно документального кинематографического образа на авторские формы.
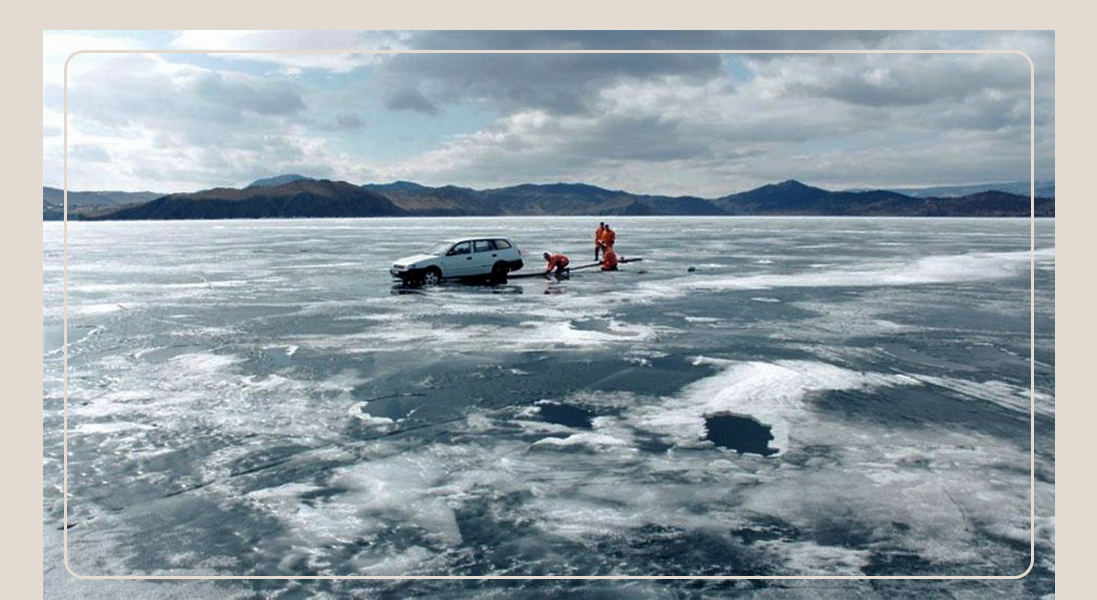
Кадр из фильма «Акварель» (2018), реж. Виктор Косаковский
Впрочем, отнюдь не эта проблема составляет уникальность и выразительность ленты, но именно освобождённая камера, сумевшая схватить неподконтрольную и самобытную действительность холодных земель и моря, выявить (а не создать заново) присущее этой действительности изначальное как бы фантастическое качество.
Наконец, «Акварель» в очередной раз продемонстрировала авангардное, прогрессивное существо кинодокументалистики – кино-как-кино, – поскольку этим фильмом Косаковский совершил техническую революцию, продолжающую логику освобождённой камеры и освобождающегося кино, как её понимал Астрюк: это первая в мире лента, которая была показана в формате 96 кадров в секунду.
О фильмографии Виктора Косаковского можно писать очень долго – это задача фундаментального киноведческого исследования. Я сознательно опустил его предпоследнюю работу «Гунда», о которой следовало бы сказать чрезвычайно многое. К тому же задачей настоящего текста было наиболее лаконичное, концентрированное раскрытие «фильмообразующих» качеств кинематографической работы документалиста – того, что составляет его уникальное «Я», а отнюдь не масштабное исследование каждого его фильма.
В этой связи завершить настоящий текст следует мыслью сценариста Л. Браславского:
Опасливое предположение, что документальный фильм имеет свои пределы, свои границы, – лишь проявление косности мысли. Пределов нет. Они существуют сегодня, ибо нам не хватает ещё технических возможностей и творческих средств. Завтра возможности и средства будут. Нюансировка в выражении чувств, в поведении, в действии, недоступная даже самому гениальному актеру, станет безграничной. Психологизм, тайные пружины поступков, едва уловимые в сегодняшних фильмах, обретут большую рельефность, чем в игровом кино, ибо они будут не сыграны, но вскрыты. Подлинные перипетии жизни, более причудливые, чем любая фантазия, которая всегда бледнела перед лицом поразительных фактов, лягут в основу этих картин.[24]



.svg)




